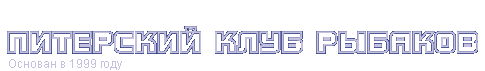Рыбацкие рассказы
Накануне
Фима
Посвящаю сыновьям.
1.
Накануне, перед волнующим, долгожданным отъездом, который раз спрашивал я себя: «А нужно ли мне это? Эти соревнования «Хищник». А другим? Нужно ли мое участие?» Не суть.
29 сентября, пятница, девятнадцать часов. Затяжное ожидание девятичасовой электрички на платформе в Мурино. Случилось так, что я поехал один. Плоская коньячная бутылка удобно лежала во внутреннем кармане рыбацкой пуховой куртки. В черном бархатном чехле прятался новенький спиннинг, купленный специально к соревнованиям. Рюкзак, стоящий у ног, время от времени валился под тяжестью только что приобретенных и брякающих в клапане блесен. Я смотрел на верхние этажи городских домов, отдаленных от меня пустырем, редкими тополями и ржавыми коробками гаражей, на черты надоевшего мне города, который вот-вот покину. Собственное настроение не радовало, хотя могло получиться и так, что с работы меня не отпустили бы вообще, до позднего вечера. Все друзья уже в Приозерске, и жена там. Поди, грузятся на пароход. Спасало лишь бродяжное пятничное настроение. И то хорошо. В путь, наконец-то в путь. Пять часов спасительного пути. Главное, уехать.
Электричка на Сосново возникла неожиданно. Ослепительный луч стремительно надвигающегося прожектора выхватил всю платформу целиком. Электричка заполонила собой станцию, оглушила отъезжающих короткими свистками и громыхающим подвижным железом. Молниеносно возник план. Столь требуемое душе разнообразие можно было заполучить прямо сейчас. Через считанные секунды я катил в сосновской электричке, и этот скачок со всем рыбацким скарбом в темноту тамбура, скачок как бы в другое измерение, веселил меня своей неожиданностью, а также тем, что электричка неслась в Сосново чуть быстрей, чем зазевавшееся городское время, сразу же рванувшее из Мурино и теперь не поспевающее за ней. Предвкушение побывать в Сосново и там, где-то на полпути до Приозерска, скоротать два часа ненужного мне ожидания, это предвкушение неслось быстрей, чем электричка, бешено мелькало столбами и переездами, чокалось со мной за отъезд. Предвкушение преподнесло мне идеально прописанный пейзаж «Сосново» с остроконечной башенкой над светлым двухэтажным зданием вокзала, любезными таксистами, дополнительными приозерскими электричками, ждущими меня, и прочей дребеденью типа бутылочки мартовского пива, купленной в буфете.
2.
Когда из полупустого вагона я ступил на платформу в Приозерске, шел первый час ночи. За платформой, над всем Приозерском и дальше, стояла мокрая осенняя темень, как вызов, как контраст еще свежим летним ощущениям от рыбалок в белые ночи и этим столпам фонарного света, выхватывающим из темноты проходящих мимо людей. Где-то справа от платформы в кромешной тьме угадывалась Вуокса по шуму деревьев, качаемых речным ветром. В столпах света моросил противный мелко-осенний дождик, колол щеки и руки, не защищенные одеждой. Ощущение потерянности не покидало меня. Приехать за сто пятьдесят километров в столь поздний час да еще два часа идти на веслах. А нужно ли мне это? И хотя база «Яркое» была надежно спрятана в холщовый мешок непроглядной ночи, высокий костерок, распаленный друзьями на невидимом острове, доносил свое мистическое зарево до реально ощутимого, холодного, мертвецки спящего Приозерска.
Из толпы спешащих по платформе людей столп фонарного света выхватил Львовича. Большой, грузный человек в серой тройке и ботинках на тонкой подошве, без рюкзака и спиннинга в руках, вызвал недоумение: «Львович, на соревнования?». Лодочная станция, выросшая из кустов, ослепила нас прожекторами. В силуэтах людей, стоящих на сходнях в рыбацких плащах до пят, угадывались Вовка Макридин и МИХАИЛ, имя которого пишется большими буквами. А вот и Юра. Значит, встречают. Сборы к отплытию пошли веселее. Вот и Львович, уже облаченный в светло-зеленый рыбацкий плащ, в обеих руках он держал по контейнеру с искусственными приманками. «По пятьдесят?» — крышка термоса понеслась по кругу, как поезд, быстро и по расписанию: держи, держи, держи. Взревел движок мотора, торопливо заворчал, заглох, еще громче взревел, следом же заурчал второй, и дышащая речная тишь под говорок встретившихся братьев-движков ворвалась к нам откуда-то из темноты и заполонила сердце, с пол-оборота завела этот третий движок, радостно стучащий слева.
Речной простор несся со свистом навстречу двум параллельно идущим моторным лодкам. Второй плес неожиданно вырос на выходе из протоки. В темноте, раздвинувшейся на широкой реке до вселенских размеров, угадывались очертания островков, знакомые с детства. Набирая скорость, лодки летели к базе «Яркое», все еще скрытой от глаз, но уже ощутимой по запаху кострового дымка, въевшегося в плотную ткань моей рыбацкой куртки. «Фима, откинься на рюкзаки» – Львович, управляя мотором, вглядывался в изрезанные очертания бегущего правого берега, изредка упирал луч карманного фонарика в непробиваемую мглу. МИХАИЛ время от времени творил обряд с литровой бутылкой и крышкой термоса, наугад протягивал мне руку. Я лежал на рюкзаках в носовой части лодки и глядел ввысь. Косо моросящий дождик ушел влево. Разлетающиеся по дуге брызги речной воды отлетали от резиновых плащей, как искры от точильного круга. Крапчатый круг вселенной набирал обороты и над кронами дремучих деревьев разбрызгивал синие звезды, а те, залипнув на небосклоне, излучали ясное сияние и, как сотню или тысячу лет назад, указывали нам, идущим в ночи странникам, путь к обетованному берегу и костровому теплу.
3.
Ощущение, что рыбалка не состоится, пришло сразу, как только я вместе с женой Машильдой и младшим сыном Водяным, и всем рыбацким скарбом, остуженным субботним утром оттолкнулся в нагруженной лодке от людного причала. И перехлест спиннингов, и глухие зацепы блесен за топляки, и леска, полностью сорванная со шпули на зацепе, и плетенка, намотанная на весло, и самый дорогой воблер, как терьер, вцепившийся мертвой хваткой в днище лодки, – все это состоялось, все те неурядицы, о которых я знал заранее, и все-таки выбившие меня как участника соревнований. В четырнадцать часов, за час до окончания соревнований, в надежде выправить ситуацию и уйти от нулевого результата я высадил из лодки своих домочадцев. Не помогло. Поток мысленных обвинений хлынул на всю городскую жизнь, на работу, укравшую у меня пятницу, на домочадцев, ни в чем не повинных, к своему удовольствию и в мою поддержку оказавшихся в лодке со мной. Осенней ночи, трущей пламенные заспанные глаза, пропахшей дымком и слегка пьяной, тоже досталось. Вспомнились все предыдущие соревнования, и формула «один в лодке», давшая сумму хороших результатов, крепко засела в моих мозгах. Блестящие приманки, плотными рядами лежащие в открытых коробках, тяготили мой взгляд, новенький спиннинг не радовал, лодку болтало, а Вуокса, эта стремнина несбывшихся надежд и оставленного где-то на зацепе счастья, невозмутимо текла своим чередом.
4.
Вот оно, рыбацкое братство! Круговерть рыбаков, спешащих со всех сторон к судейскому столику, качающийся маятник весов, непроходимый лес спиннингов, детские глаза, горящие от нетерпения, дощатый стол и лежащая на нем ЩУКА, огненно-красноперая хищница, интриганка тростниковых заводей и воровка рыбацких душ. Моделист, выудивший эту красавицу, скромно рассказывал несведущим о накале страстей, о скользяще-поршневом ходе катушки, напряжении хлыстика и бешеной пляске плетенки вокруг него. Невозмутимый судья Мегре восседал на деревянной скамейке и заправлял маятником рыбацких счастий. Вездесущий Сом, с высоты речного причала, с хрипотцой в голосе оглашал на всю Вуоксу результаты состоявшихся соревнований. Дракон выверял опись вверенных ему сокровищ, пересчитывая лодки. А Николаевич, этот самый Главный из всех главных, глядя на происходящее, хитро щурился сквозь очки, и ночные бабочки распаленных костров крылатыми языками липли к его стекляшкам.
И какие же соревнования без ухи, объединяющей участников после разобщения? На лесной поляне у вековых лапчатых елей и замшелых валунов протянулся десятиметровый дощатый стол, серый от времени, весь усыпанный еловыми иглами. Зубастые щучки, хрупкие щурята, горбатые окуньки, и даже плотва, только что пойманные на спиннинг, выпотрошенные и почищенные, были принесены к столу в трех полиэтиленовых мешках, всего килограммов на пятьдесят. Двадцать килограммов картофеля, четыре десятка золотых хрустящих луковиц, солнечные лимоны, зарево из помидоров, интригующий мускатный орех, буйство укропа и внутриутробная ночь маслин – все по отдельности ждало своей очереди, чтобы расцвести в праздничном салюте тихо булькающей двойной юшки. Поварская бригада деловито стучала ножами по дощатому столу, кромсая овощи. Картофельный серпантин падал в коробку с проворных рук Машильды. Главный поваренок начинял солью и перцем килограммовые тушки щук и, сбрызнув каждую лимонно-луковым соком, заворачивал в фольгу. Костровой, ретируясь к столу, любовался лесным заревом от гудящего, распаленного им костра, рьяно регулировал жар под тремя тридцатилитровыми котлами, и напоминал Главному повару о необходимости смачивания сухого горла тридцатью каплями поварских, или же костровых, в его понимании.
Наклонившись вперед и положив локти на колени, я сидел на деревянной скамейке напротив гудящего костра, и сквозь непроходимый тростник слипающихся век наблюдал за поварской бригадой. Итак, если бы не Поваренок, ничего не получилось бы. Главный повар иссяк. И так и сяк – не получилось бы. Я иссяк. А нужно ли мне это? Раз так, фартук вручу Поваренку. Костровой, заслонку! Костровой вымучивал тридцать капель, жарко вился над ухом. Костровой, в строй! Лес наполнялся мистическим эхом от слов, сказанных моим же голосом, едва улавливались прозрачные голоса подтягивающихся к лесной поляне людей. Поваренок плоскими полешками выуживал из котлов наволочки с рыбной мелочью. Густой пар, валящий из гигантских емкостей, срезал очертания поляны, а угли, эти скученные мерцающие кусочки ночного осеннего неба, остывая, разрастались до непроглядной темени, стучащей в темечко. Поварские ножи стучали по дощатому столу, тук-тук, тук-тук, тук-тук, электричка, набрав скорость, отстукивала джиг на переездах, мелькали блесны, развешенные на фонарных столбах, и когда завизжали тормоза, а двери выдохнули, я набросил рюкзак на плечо, подхватил чехол со спиннингом и вышел на пустынную железнодорожную платформу в Сосново.
5.
Сосново встретило меня кромешной тьмой и зловещим безлюдьем, прогуливающимся по платформе. Пейзаж «Сосново», идеально прописанный моим воображением в электричке, с остроконечной башенкой над светлым двухэтажным зданием вокзала и дополнительными приозерскими поездами, ждущими меня, был моментально стерт темной, одной-единственной пугающей меня мыслью: а что если не выйдет уехать? За краем этой мысли не было ничего, ни проблесков переездов, ни бегущих светящихся окон, ни мощных прожекторов, освещающих лодочную станцию в Приозерске. Эта же темная мысль погнала меня к расписанию. Белый стенд расписания утверждал обратное: электропоезд номер семьдесят восемь восемьдесят шесть, следующий до Приозерска, прибудет из Санкт-Петербурга к первой платформе в двадцать один час сорок минут. Почему-то не верилось, и я решил заглянуть на привокзальную площадь, где, возможно, останавливаются рейсовые автобусы и ночные таксисты ждут своих пассажиров. Площадь была затемнена, металлические одноногие фонари криво стояли по окружности площади, но ни один из них не светил. Из множества желтых вывесок, указывающих на автобусные остановки, я не нашел ни одной, на которой был бы обозначен рейс до Приозерска. Да и появись автобус на этой площади в столь поздний по пригородным меркам час, я подумал бы, что это призрак, дикий блуждающий мамонт с бивнями световых столбов, и мое сердце не екнуло бы, настолько темной и, как дождик, затянувшейся была реальность. Две машины, действительно, стояли на площади, только таксисты не были так любезны, как это виделось мне в электричке, часовая ночная автомобильная прогулка от Сосново до Приозерска стоила одну тысячу рублей. Обстоятельства, которые были сильней меня, на этот раз я почувствовал физически, всем нутром, видимо, так не хотелось мне оставаться в Сосново. В голову лезла всякая дребедень, вспомнилась бутылочка мартовского пива, сущая безделица, тем более что я не люблю пиво, но почему-то именно в этот момент мне так захотелось глотнуть эту желто-черную пенящуюся ночь из горлышка коричневой бутылки, что я мгновенно оставил поиски машины, и направился вглубь поселка на поиски работающего ларька. Безуспешные поиски привели меня обратно к железнодорожной станции, где, как я уже понял, не было ни ларьков, ни буфета, ни туалета, впрочем, зачем он нужен, если на станции не продают пиво?
К моему большому удивлению зал ожидания был набит всевозможным людом. По сравнению с привокзальной площадью было даже шумно, как и должно быть на вокзале, насколько я помню с детства. Отъезжающие сидели на низких деревянных стульях, скрепленных друг с дружкой арматурой, подпирали грязные, облупленные стены, некоторые курсировали из угла в угол через центральную часть зала. Пановал серо-свинцовый цвет. Им были выкрашены стулья, высокие стены, все деревянные строения, находящиеся внутри зала. Серого цвета было настолько много, что и лица людей, ожидающих электричку, казались увешенными этими свинцовыми минами томительного ожидания, громкое тиканье которых слышалось от каждого человека, пристально рассмотренного мной. Бегущий по кругу взгляд все силился, но так и не смог зацепиться за что-либо безумно-цветное, могущее взорвать это вселенское одиночество серо-свинцового цвета. Для порядку, как добропорядочный турист, я прошелся с рюкзаком на плечах по периметру зала. Наконец-то я нашел место, как мне показалось, в стороне от всех. В углу между серой деревянной коробкой входной двери и серой внутренней стеной здания, у прикрученной к стене серой батареи, стоял один ряд серых стульев, никем не занятых, куда я и поспешил сесть, в самый угол, положив плашмя ярко-синий девяностолитровый рюкзак на пол перед сиденьем, а спиннинг поставил в ноги. Долго ли я так просидел, прислонив голову к батарее и закрыв глаза, не знаю. Открыл глаза, потому что захотелось есть. Моментально подняв рюкзак с пола, и откинув клапан, я стал рыться в его темных, пропахших рыбой, недрах, пытаясь нащупать среди плотно уложенных вещей массивный продуктовый контейнер с шестью свиными котлетами, килограммом отварной картошки, килограммом домашней квашеной капусты, нарезкой сала и десятком бутербродов с копченой колбасой, заботливо слепленных и упакованных Машильдой перед ее отъездом в Приозерск, как сообщила мне записка, оставленная на кухне в городской квартире. После контейнера под руку попалась литровая бутылка водки, нарезной батон, полкило печенья, упакованные в целлофан. Все это было выужено из рюкзака на серый божий свет и выложено на серый стул, стоящий рядом. Плоская коньячная бутылка к тому времени была опорожнена, и я пяткой задвинул ее под стул. Когда зеленый контейнер был вскрыт, и на зубцы красной пластмассовой вилки села аппетитная коричнево-золотая котлета, а другая рука сжимала голубую пластмассовую кружку с пятьюдесятью граммами «Санкт-Петербурга», а нетерпеливый рот уже готов был открыться, и глаза скучились на поднесенной ко рту котлете...
Нет не так. Когда мне было глубоко наплевать на все серые рты, разинутые одновременно с моим, а также на серые глаза, лакающие из моей голубой кружки и сопровождающие полет моей коричнево-золотой котлеты на красной вилке...
Нет, когда я выспался и согрелся, сидя у батареи; когда почувствовал, что удобно сижу в теплой одежде по моему размеру и шевелю радостными пальцами ног в массивных рыбацких ботинках; когда узнал, что голоден и трезв, и хочу действа; когда плеснул пятьдесят граммов водки в голубую кружку; когда открыл зеленый контейнер и наколол жирную коричнево-золотую свиную котлету на красную пластмассовую вилку, и уже мысленно заглотил ее целиком...
Нечто невидимое, и для меня в тот момент необъяснимое, подтолкнуло снизу мой локоть, и пятьдесят граммов водки замедленным торнадо обрушились на мои ботинки, а вторую руку, несущую котлету на вилке, это нечто остановило на полпути ко рту.
Посмотрев рассеянно на мокрые носки ботинок, так и не опустив вилку и кружку, я резко повернул голову вправо. На том конце скамьи, состоящей из восьми скрепленных арматурой стульев, у деревянной коробки входной двери, в самом углу, в самой серой тени, отбрасываемой от коробки, почти невидимые, можно сказать, бледно проявленные, вплотную друг к другу, как воробушки, на одной скамейке со мной сидели пацаны и пристально, не отрываясь, смотрели на мои руки. Их было двое.
6.
Какое-то время мы так и сидели, пялясь друг на друга, я с поднятыми руками, а они – переводя, казалось бы, один на двоих, взгляд, то с меня на контейнер, то с контейнера на котлету. Как-то само собой получилось, что я молча пересел ближе, и с расстояния в два, разделяющих нас, стула нерешительно протянул в их сторону правую руку с вилкой, а точнее с котлетой, посаженной на вилку. Пацан, сидящий ближе ко мне, с огненными крашеными волосами, невозмутимо принял вилку, тотчас же передал второму, а тот, не говоря ни слова, стал грызть котлету. Он ее не ел, не отщипывал, не смаковал с расстановкой, а жадно грыз передними зубами, вгрызался в сочную мякоть котлеты, зажав ее в тонких тисочных губах. Маленький вздернутый носик ходил ходуном. Глаза и без того узкие, были сосредоточены на котлете, и потому щурились, а верхние веки с длинными черными ресницами дрожали. Он очень походил на мышонка, и только невыразимо бледная, почти пергаментная кожа лица, и длинные, каждый с ноготочком, пальцы, не оставляли сомнений, что это маленький человек. От напряжения, не зная, куда деть глаза и руки, я дотянулся до бутылки с водкой, обратно выпрямился, машинально свернул колпачок и, плеснув в кружку на треть, сделал один большой глоток. Мышонок кинул в мою сторону беглый взгляд и протянул мне вилку с огрызком котлеты, запечатлевшим его прикус. Морщась, я сказал «му», притянул к себе контейнер и, вложив щепоть капусты в огненный рот, передал контейнер Крашеному. Теплое покалывание накатило в моей груди, и только я решился завести разговор, как металлический женский голос объявил на всю станцию о прибытии электропоезда на первую платформу. Народ зашевелился, зашумел, входная дверь то и дело стала хлопать. «На Приозерск?» – переспросил я, пацаны утвердительно кивнули. Я вскочил с места и судорожно стал пихать в рюкзак свой разбросанный скарб. Под ногой звякнула коньячная бутылка. Протянув руку в сторону Крашеного, я осекся. Крашеный, держа контейнер на коленях, жадно уминал картошку. Почему картошку? Не сало, не котлеты, не домашнюю капусту, в конце концов. Он спешил. И по его смущенному, сморщенному огненному лицу было видно, что ему стыдно, оттого, что он тоже, как я, спешит, но раз уж выпал такой спешащий случай, то хоть картошки хапнуть, не убью же я за холодную вареную картоху. Мышонок не ел. Крутя в пальцах красную пластмассовую вилку, он равнодушно смотрел на контейнер, все равно ведь отниму. Выложив обратно на скамейку батон и пакет с печеньем, первое, что лежало сверху, я затянул два шнура на рюкзаке, накинул клапан, щелкнул двумя пластмассовыми замками и, набросив рюкзак на плечо, кинулся в дверь, не забыв прихватить и спиннинг.
Электропоезд уже пыхнул, подойдя к началу платформы. Когда я скакал вверх по ступенькам, за моей спиной еще хлопала дверь вокзала, и под ногами бегущих пассажиров скрежетала галька. Долго не мешкая, я вскочил в четвертую дверь и громко выдохнул вслед за выдохнувшими дверьми электрички. Вагон качнулся. Оступившись назад от поступательных толчков поезда, я обернулся, чтобы ухватиться за какой-нибудь угловой выступ и не упасть. В темноте тамбура, на глухом фоне закрытых дверей, передо мной стояли пацаны. Мышонок одной рукой держал в обхват открытый контейнер и указательным пальцем другой руки снимал с внешней стенки контейнера и с рукава своей куртки вывалившие наружу, сочно висящие гроздья квашеной капусты. А Крашеный, нагруженный пакетом с печеньем, батоном, крышкой от контейнера и голубой кружкой, все это прижимал к груди и улыбался во весь рот.
7.
«Сколько тебе лет?» – продолжал я расспрашивать Крашеного. «Шестнадцать». «А мне четырнадцать» – встрял в разговор Мышонок. «Моя мамка убила троих, нет, двоих, одного из них топором, подошла сзади, и прямо по голове. И меня всегда била, брала сковородку и била, тоже по голове, а потом запирала в погребе. А я кормил крыс перловкой». «И отца его зарезала» – авторитетно подтвердил Крашеный. «Да, отца во сне. Он спал, а она взяла сапожный тесак и пол лица ему срезала, как бритвой. Острый такой тесак был. Отец всегда прятал его от меня за пазухой. А потом ворвались менты и стали все громить, даже бабушке досталось». «Гонит или правду говорит?» – спрашивал я себя, сидя в теплом, празднично-светлом вагоне рядом с Крашеным и честно распутывая витиеватый ход историй сидящего напротив Мышонка. Эти истории возникали одна из другой, и если история шла на убыль, то тут же пересекалась с новой, как путаные ветки яблони, которые норовили зацепить меня, иногда истории неожиданно обрывались, и всегда, почти каждая, если ветвь повествования не была обрублена топором, заканчивались осенними заморозками и гниющими на земле плодами. На моих глазах сталкивались лбами черствые родственники и воровато смотрящие учителя, менты проверяли документы и отнимали деньги, все вокзалы города и области таили в себе опасность и их ночные залы были наполнены пугающим, леденящим душу эхом приближающихся шагов. А директор был честным малым, в начале каждого месяца он лично выдает каждому ученику по триста двадцать семь рублей сорок копеек, а по окончании училища – по четыре тысячи пятьсот рублей и ордер на жилую площадь. Оказалось, что их детский дом находится в Тихвине, а училище в Лодейном поле, и на выходные их отпустили в Санкт-Петербург, даже увольнительную выписали, хотя детство их прошло в Ленинградской области, а они после того, как в туалете Московского вокзала насильно лишились денег и документов, каким-то бешеным крюком оказались в Сосново, в четырехстах километрах от Лодейного поля, и это была только пятница, а впереди еще Мюллюпельто, суббота и воскресенье. Крашеный запихивал в рот бутерброды с копченой колбасой, положив на каждый кругляш кусочек сала. По его выпирающему, активно ходящему кадыку было видно, что сухая булка лезет в горло с трудом, но серьезный настрой едока не оставлял бутербродам ни малейшего шанса доехать до Приозерска. Откинув клапан, я протиснул руку на самое дно рюкзака и извлек на свет двухлитровую бутылку с квасом. Бутылка пошла по кругу. Мышонок, стуча вилкой по дну пластмассового контейнера, подбирал непослушные мокрые ошметки вареной картошки, сосредоточенно соскабливал узоры квашеной капусты и морковки с внутренних стенок контейнера. Затем он поднес контейнер к губам и на одном выдохе выпил капустный сок до последней капли, отрыгнул, руки вытер о брюки и принялся развязывать крепкий узел на целлофановом пакете с печеньем. «Господи, вот кому он нужен, этот подросток?» – терзал я себя, глядя на голодные тонкие губы Мышонка с залипшей на них искоркой тертой моркови. Мышонок, прервав повествование, поднял на меня глаза: «Дядя, Вы что?». «Ничего. Ешь» – отрезал я. Злость перла из меня, как эти безумные истории – из Мышонка, сокровенные слова подростка, не высказанные взрослым людям. Я и сам чувствовал повышающуюся температуру злости, сидящей во мне. Я ненавидел их родителей с топорами в руках и тесаками за пазухой, их учителей, кормящихся в столовой их училища. Я ненавидел их директора, который с их же слов был честным малым, но почему-то само собой спрашивалось – когда? Этот прилежный директор каждый месяц, по ведомости, выдает лично каждому ученику по три сотни рваных в качестве стипендии и, наверняка, своевременно отчитывается за них уж который год. Я ненавидел ментов, курящих за их счет, двух машинистов и трех контролеров, везущих их в ночи в Мюллюпельто, не спросив «зачем». Я ненавидел эту электричку, катящую вдалеке от Лодейного поля на рыбацкий праздник в Приозерск по бескрайним просторам моей северной родины, которую я также сильно ненавидел за то, что она, в конце концов, откупится от этих подростков двумя ордерами на жилую площадь за сто первым километром. Не выдержав накала злости и перестука накручивающихся мыслей, я вышел в тамбур и закурил. Вопрос «А мне это нужно?», как огонек бессмысленной сигареты, вспыхивающий на каждой затяжке в темном тамбуре, жег мое нутро. Когда я вернулся в купе, Крашеный и Мышонок с умиротворенными, порозовевшими человеческими лицами вальяжно сидели друг напротив друга, кинув обутые ноги на противоположные скамейки, и спокойно, не скрываясь от немногочисленных пассажиров, курили. Мне было наплевать на правила поведения пассажиров в электропоезде. Если хоть кто-нибудь из разбросанных по вагону пассажиров или контролеров, покинувших вагон сорок минут назад, подошел бы и сделал замечание, я полез бы в драку. Я ненавидел этих сонных людей, так и не подошедших к пацанам, курящим прямо в купе. Достав из рюкзака литровую бутыль «Санкт-Петербурга», я плеснул себе в кружку и опрокинул. «Зачем в Мюллюпельто, Крашеный? Извини, что не предлагаю». Крашеный осекся, притушил большим и указательным пальцами ополовиненный хабчик и снял ноги со скамейки: «Там моя тетка. До нее еще на автобусе ехать». «А на кого учишься?» – разговор явно не шел. «На слесаря, буду в автосалоне работать». «А я на повара» – буркнул Мышонок, уже поставив ноги на пол. «Вы смотрите, пацаны, учиться надо хорошо. Без работы плохо» – в тот момент ничего более умного я так и не смог сказать, и добавил: «Свои квартиры не продавайте». «А Вы на дачу или на базу?» – спросил меня Крашеный. Я замкнулся. За окном, вскользь по электричке, черное пространство летело в обратную сторону и в конце подвижного состава, срезая зыбко-светящийся окоем инородного тела, замыкалось само в себе.
Станция Отрадное замелькала в окнах вагона разбросанными снопами электричества и разбегающимися путями. В груди защемило, следующая станция Мюллюпельто. Неожиданно для себя я посмотрел на часы: «Без десяти двенадцать. Какие еще там автобусы?». Мышонок пристально посмотрел на Крашеного: «Мы на частнике доедем». Крашеный, еле сдерживая улыбку, пялился в окно. Но я-то уже знал, что ни на каком частнике, которого там нет и в помине, они не поедут, не выйдут на пустынную, открытую платформу в Мюллюпельто и не будут ночевать в лесу. Я принял решение. Следующим я ждал вопрос о деньгах, который так и не последовал. Крашеный, спросив разрешение, взял нарезной батон и с отточенной виртуозностью положил его в рукав своей спортивной куртки так, что со стороны нельзя было и заподозрить, что этот молодой бродяга, едущий в электричке, везет с собой у плеча некую контрабанду. Мышонок, как перед решающей высадкой, сосредоточенно делил печенье на двоих, отсчитывая по штукам; поделив, стал распихивать свою часть по карманам черной кожаной куртки, укороченной по нему. Видя столь решительный настрой, я достал из клапана рюкзака запечатанную пачку сигарет и вручил ее Крашеному. «В этой дыре вы не найдете ни одного частника. Там и вокзала нет. Советую ехать до Приозерска и переночевать в зале ожидания, а утром вернетесь в Мюллюпельто, и хоть на автобусе, хоть на самом черте...» – я демонстративно вынул кожаный бумажник и, сделав быстрый мысленный расчет, каждому в руку вложил по купюре на горячий утренний чай и проезд от Мюллюпельто до тетки.
8.
Мышонок, Крашеный и Фима, мы подъезжали к Приозерску, размахивая руками и наперебой рассказывая друг другу неправдоподобные истории. Непроглядная тьма отступила куда-то назад, наверно, осталась там, в Мюллюпельто. Не могло не порадовать меня самое начало славного города Приозерска, столь знакомое каждому из питерских рыбаков. По правую руку – глубокий лиственный парк и пруд с каменной береговой кладкой, находящиеся прямо под железнодорожным полотном. Потом мостки и бурный, узкий ручеек Вуоксы, пробегающий, казалось бы, под самой электричкой. По левую руку – три лодочные станции, плотно стоящие одна за другой. Последняя, ближняя к платформе, всегда ярко освещена, и под гигантскими кругами ее прожекторов открывается ночной разлив многорукавной Вуоксы, после чего электричка, напуганная таким размахом вод, замедляет бег и останавливается.
Мы вышли на платформу и легко пожали друг другу руки. В конце концов, я их выслушал, накормил, удержал от ночевки в лесу. За платформой, над всем Приозерском и дальше, стояла мокрая осенняя темень, как вызов, как контраст этим столпам фонарного света, выхватывающим из темноты проходящих мимо людей. Где-то справа от платформы в кромешной тьме угадывалась Вуокса по шуму деревьев, качаемых речным ветром. В столпах света моросил противный мелко-осенний дождик, колол щеки и руки, не защищенные одеждой. И все-таки я прощался с тяжелым сердцем. Из всех заданных мне вопросов я не смог ответить им только на один вопрос, и безучастное молчание моего ответа терзало мне душу уже сейчас, прямо на платформе, пока мы стояли вместе и я держал в ладони эти теплые подростковые руки, накрыв их другой ладонью.
Они, эти сущие дети, Мышонок и Крашеный, так и не получив от меня ответа на свой вопрос, больше не повторившийся ни разу, побежали в сторону вокзала, и через считанные секунды были втянуты толпой, идущей им навстречу. Наконец-то я преодолел собственное сопротивление и тронулся с места в противоположную сторону. И все-таки надо было обернуться, потому что надо было ответить! Надо было ворваться в зал ожидания и ответить им на этот простой вопрос, а там на их усмотрение. Я не сделал этого, я обернулся слишком поздно, и увидел большого, грузного человека в серой тройке и ботинках на тонкой подошве, без рюкзака и спиннинга в руках. Я удивился: «Львович, на соревнования?»
9.
Ну что еще можно сказать? Река Вуокса – очень живописная река. Рыбным раем ее не назовешь, но, в известной мере, инкубатор для молоди, все время крутящейся у берега, и отдушина для отдыхающего горожанина, любящего северную природу. Оказавшись на Вуоксе, почему-то всегда вспоминаешь все предыдущие поездки на эту реку, отнюдь не рыбацкие, со скромным размахом рук, но всегда душевные и веселые путешествия по реке нашей молодости. Наверно, все проходили через Вуоксу. То ли воздух здесь особенный, то ли мы не были обременены рыбалками, то ли мы в принципе не были чем-либо обременены, но Вуокса всегда оставляла в душе чистый, ничем не замутненный, след, и всегда хотелось вернуться к берегам этой реки. Вуокса и в этом году предстала перед нами во всем своем осеннем великолепии на масштабных разливах плесов и в узких тростниковых протоках, своими малыми островками, которые невесть как держатся на этой мощной воде. На других водоемах, ошарашивающих широтой размаха не меньше, чем Вуокса, не встречал я таких островков, низких и сплошь каменистых, под одну палатку, если вообще следует разбивать лагерь на продуваемом со всех сторон пространстве, но уютных для человеческого взгляда в виду наличия своего островного леса, состоящего, порой, из пяти-шести, а чаще одного дерева, как то – корявая сосна или низкорослая береза. А эти валуны, высящиеся над трехметровым тростником и молодой береговой порослью, расколотые от вершины до самого основания. Какой возница вез по Вуоксе этих громоздких седоков и невзначай скинул их на полпути в будущее, до которого они, покалеченные богатыри, дожили и увидели его, это будущее, нас, городских отпрысков, копошащихся на воде в своих лодках. А этот темнеющий, сгущающийся, будто тяжелеющий, речной воздух! Зловещие очертания непроницаемого леса на противоположном берегу реки, пляшущие между деревьями красные тени костров. Я сижу у воды на плоском камне и пробую свой голос, но голос буксует в густом воздухе. Я говорю слова прощения и любви, но они ничтожны рядом с державным теченьем этой великой реки. По далеким голосам, доносящимся до меня с базы «Яркое», я понимаю, какая тишь стоит окрест, на все эти видимые и невидимые версты речного простора.
Фима
08 октября 2001 года.